Зачем писать о правах человека?
Писать о правах человека может быть делом неблагодарным и небезопасным. Журналист рискует получить звание иностранного агента, услышать «вы все врете» или «благодаря» обиженному ответственному лицу получить повестку в суд. Как и зачем писать о правах человека, и с какими сложностями сталкиваются авторы? Разбираемся с экспертами.
Как победить чувство бессилия
Нарушение прав человека — одна из основных тем локальных СМИ. Даже надоевшая яма на дороге, которую не ремонтируют лет десять, и то нарушает права человека на достойную жизнь, на безопасное передвижение. Пишет городской журналист про эту яму, пишет, но ничего не меняется. Как тут не впасть в уныние?
Яма на дороге — просто образ, примеров под него каждый автор соберет множество. Потому что у каждого в запасе есть такие бессменные темы.
Подливают проблем редакциям постоянно обновляющиеся законы, введение запретных тем и ограничений на освещение.
Яма на дороге — просто образ, примеров под него каждый автор соберет множество. Потому что у каждого в запасе есть такие бессменные темы.
Подливают проблем редакциям постоянно обновляющиеся законы, введение запретных тем и ограничений на освещение.
- Георгий Чентемиров*председатель Карельского союз журналистовЯ не вижу никаких проблесков, никакого света в конце тоннеля, только ужесточающееся законодательство. Это неизбежно приводило и будет приводить к ограничению наших профессиональных прав. Мы уже не можем написать о том, о сём, о пятом, о десятом, об иноагентах, о самоубийствах, об экстремистах… Сейчас можно попасть под оскорбление ветеранов, под реабилитацию нацизма, подо всё что угодно. И это неразрывно связано с внутренней политикой, а она только набирает обороты в плане закручивания гаек.
Ощущение безысходности порой возникает, признаются российские журналисты, и оно расстраивает. Но не все ситуации безнадежны. Иногда тему нужно поднимать вновь и вновь, чтобы произошли изменения.
«Очень часто проблема не решается после первого текста, но мы обычно продолжаем писать о судьбе героя дальше и порой случается невозможное», — говорит Елена Трифонова, автор и редактор авторского интернет-журнала «Люди Байкала». В пример она приводит серию публикаций о домохозяйке из Усолья Марине Рузаевой, которую пытали полицейские. По соседству с женщиной произошло убийство, в полиции решили, что она могла быть свидетельницей преступления, и пытались выбить из неё показания электрошокером, надев на голову пакет.
— Марине и её мужу Павлу удалось совершить почти чудо: они добились, чтобы полицейских осудили на реальные сроки, — говорит Елена Трифонова. — Правда, им пришлось посвятить этому какую-то часть своей жизни. Муж Марины за это время стал правозащитником, а до этой истории устанавливал на дверях домофоны. Я думаю, тут реально очень помогла огласка, но главное сделали Марина и Павел — они не сдались и победили.
«Очень часто проблема не решается после первого текста, но мы обычно продолжаем писать о судьбе героя дальше и порой случается невозможное», — говорит Елена Трифонова, автор и редактор авторского интернет-журнала «Люди Байкала». В пример она приводит серию публикаций о домохозяйке из Усолья Марине Рузаевой, которую пытали полицейские. По соседству с женщиной произошло убийство, в полиции решили, что она могла быть свидетельницей преступления, и пытались выбить из неё показания электрошокером, надев на голову пакет.
— Марине и её мужу Павлу удалось совершить почти чудо: они добились, чтобы полицейских осудили на реальные сроки, — говорит Елена Трифонова. — Правда, им пришлось посвятить этому какую-то часть своей жизни. Муж Марины за это время стал правозащитником, а до этой истории устанавливал на дверях домофоны. Я думаю, тут реально очень помогла огласка, но главное сделали Марина и Павел — они не сдались и победили.
- Елена Трифоноваавтор и редактор авторского интернет-журнала «Люди Байкала»Нужно понимать, что главная задача журналиста — не решить конкретную проблему, а говорить о проблемах, не давать о них забыть и замести под ковёр. Это не спринт, это — марафон, и нужно на него настроиться.
Похожего мнения: «журналистика — это игра вдолгую, и какие-то проблемы могут решаться годами» — придерживается и Александр Эрлих, издатель и главный редактор городского сайта Zelenograd.ru.
— Самый лучший наш кейс: почти пять лет мы лоббировали строительство пешеходного моста, писали, добивались, чтобы расходы на него включили в бюджет. И добились, — говорит Александр Эрлих. — Никто не верил, что это возможно. В итоге мы получили не понтонный мост, а хороший, по которому каждый день проходят сотни пешеходов. И на это нам потребовалось пять лет. Мало кто будет заниматься проблемой столько времени. У людей горизонт планирования, как правило, до следующей зарплаты.
«Защищая одного — защищаем каждого» — такого девиза придерживается правозащитный фонд «Общественный вердикт». Сотрудники фонда безвозмездно помогают людям, которые пережили пытки, насилие и жестокое обращение со стороны правоохранителей; работают по делам, связанным с участием в митингах, пикетах, акциях протеста; защищают тех, кого преследуют за их гражданскую позицию, по «иноагентскому законодательству» и законодательству о «нежелательных организациях». Юристы фонда, например, помогали Марине Рузаевой и ее мужу Павлу Глущенко добиваться справедливости.
— Самый лучший наш кейс: почти пять лет мы лоббировали строительство пешеходного моста, писали, добивались, чтобы расходы на него включили в бюджет. И добились, — говорит Александр Эрлих. — Никто не верил, что это возможно. В итоге мы получили не понтонный мост, а хороший, по которому каждый день проходят сотни пешеходов. И на это нам потребовалось пять лет. Мало кто будет заниматься проблемой столько времени. У людей горизонт планирования, как правило, до следующей зарплаты.
«Защищая одного — защищаем каждого» — такого девиза придерживается правозащитный фонд «Общественный вердикт». Сотрудники фонда безвозмездно помогают людям, которые пережили пытки, насилие и жестокое обращение со стороны правоохранителей; работают по делам, связанным с участием в митингах, пикетах, акциях протеста; защищают тех, кого преследуют за их гражданскую позицию, по «иноагентскому законодательству» и законодательству о «нежелательных организациях». Юристы фонда, например, помогали Марине Рузаевой и ее мужу Павлу Глущенко добиваться справедливости.
- Елена Истоминаспециалист по связям с общественностью фонда «Общественный вердикт»Рассказывая истории своих подзащитных, мы как бы показываем им, что они не одни со своей болью, их поддерживают не только правозащитники, но и самые разные незнакомые люди, сопереживают им, восхищаются их стойкостью и желанием добиться справедливости.
Почему говорить о правах человека рискованно, но не бессмысленно
Есть минимум 30 поводов наказать человека штрафом, ограничением или лишением свободы только за публикации в интернете. И это один из рисков для журналистов. Написали о работе какой-нибудь организации, а ее внезапно признали «нежелательной». Не успели удалить материал с сайта — можете получить штраф. Наказать штрафом и заблокированным сайтом могут за «пропаганду» однополых отношений. И нет гарантии, что к пропаганде не отнесут, например, рассказ о нарушении прав человека, состоящего в однополых отношениях. Есть примеры, когда журналистов задерживали и штрафовали, когда они работали на акциях протеста.
За проявление гражданского активизма государство тоже часто карает. Только фонд «Общественный вердикт» в последние годы ведёт несколько сотен дел о защите прав активистов. Суды в подавляющем большинстве работают как конвейер, не учитывая правовые позиции и аргументацию, назначают штрафы, административные аресты, обязательные работы. «Но даже в такой неутешительной сложившейся правоприменительной практике нам удаётся отменять судебные решения или же хотя бы снижать штрафы и облегчать другие административные наказания», — говорит Елена Истомина.
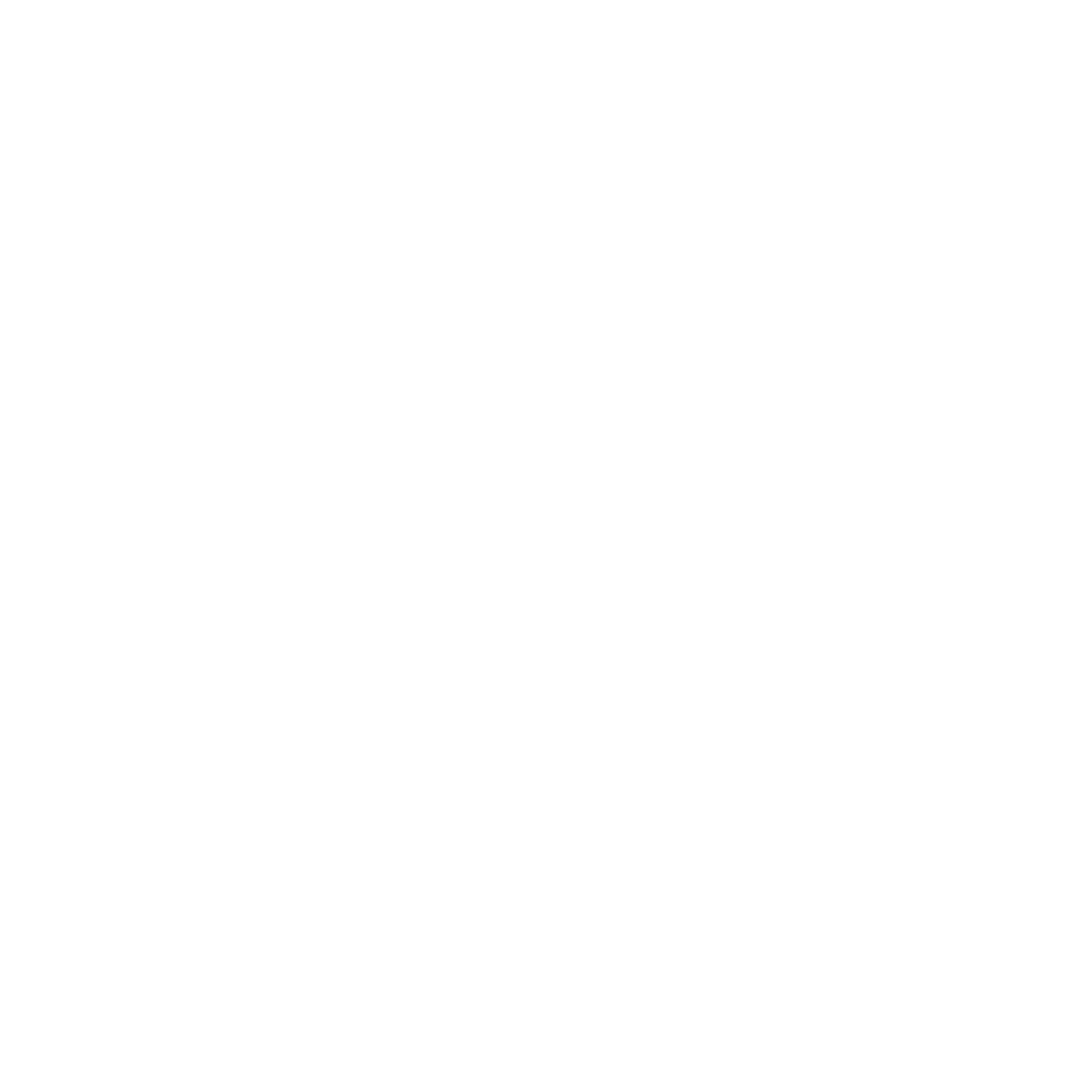
Когда не удавалось добиться справедливости в российских судах, юристы фонда обращались в Европейский суд по правам человека. После выхода России из Совета Европы остаются правовые механизмы подачи жалоб в комитеты ООН.
- После начала «спецоперации» независимая журналистика в нашей стране практически оказалась под запретом, следовательно, нельзя исключать, что следующими станем мы. Тем более последние восемь лет мы постоянно находимся под прессингом штрафов, шельмования в прогосударственных СМИ. Регулярно слышим в судах от адвокатов обвиняемых в пытках и незаконном насилии, что мы «иностранные агенты» и работаем против интересов России. Но мы в эти восемь лет не остановились, не прекратили ни одной из наших программ, более того, запустили несколько новых проектов.
Может быть небезопасно для журналиста помогать жертвам домашнего насилия. Журналистка «Людей Байкала» боялась выходить из дома после публикаций о депутате небольшого города, который избивал свою жену. Та сбежала с маленьким ребёнком на руках. Подала в суд, проиграла. Муж находил её, снова пытался избить, и никакой управы на него нет.
— У человека явно расшатана психика, при этом большой административный ресурс и влияние в городе, — рассказывает Елена Трифонова.
Ещё одна история о домашнем насилии закончилась лучше. Жена подала на развод, суд оставил детей у неё. Но бывший муж украл ребёнка, не позволял ему ходить в школу и гулять. При этом не открывал дверь ни матери, ни полиции. Женщине удалось добиться, чтобы судебные приставы забрали ребёнка у отца и вернули ей.
— Но ехать на встречу она боялась страшно. Думала, что после того, как приставы передадут ей сына, бывший муж начнёт их преследовать и снова отберёт ребёнка, — вспоминает Елена Трифонова. — Она попросила нас присутствовать при их встрече, чтобы как-то обезопасить себя. Думала, что при журналистах он будет держать себя в руках. Было совершенно непонятно, чего ждать. Так что нам пришлось провести целую операцию прикрытия. В итоге всё хорошо, мать и ребёнок дома, в другом городе.
— У человека явно расшатана психика, при этом большой административный ресурс и влияние в городе, — рассказывает Елена Трифонова.
Ещё одна история о домашнем насилии закончилась лучше. Жена подала на развод, суд оставил детей у неё. Но бывший муж украл ребёнка, не позволял ему ходить в школу и гулять. При этом не открывал дверь ни матери, ни полиции. Женщине удалось добиться, чтобы судебные приставы забрали ребёнка у отца и вернули ей.
— Но ехать на встречу она боялась страшно. Думала, что после того, как приставы передадут ей сына, бывший муж начнёт их преследовать и снова отберёт ребёнка, — вспоминает Елена Трифонова. — Она попросила нас присутствовать при их встрече, чтобы как-то обезопасить себя. Думала, что при журналистах он будет держать себя в руках. Было совершенно непонятно, чего ждать. Так что нам пришлось провести целую операцию прикрытия. В итоге всё хорошо, мать и ребёнок дома, в другом городе.
- Обычно журналисты от тем, связанных с домашним насилием, отказываются. Они очень рискованные со всех точек зрения. Это касается и физической безопасности, и юридических рисков. Закон о домашнем насилии так и не принят. Освещается тема плохо именно из-за того, что очень сложная и сенситивная. В обществе считается, что люди должны сами выяснять свои отношения. Среди читателей эти истории вызывают споры, их не очень хорошо принимают. Считают, что жертва сама виновата — «изменяла, или мозг выносила, или ещё что». Люди оправдывают насилие, они привыкли к нему. Но это значит, что говорить нужно обязательно. Только так можно что-то изменить.
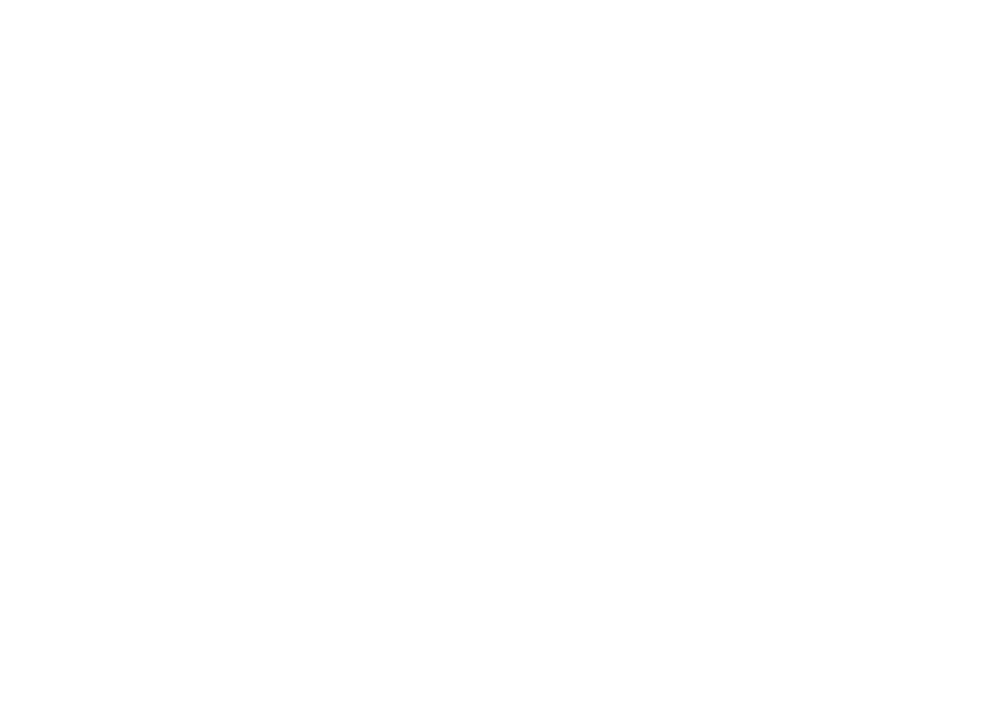
Такое облако слов получилось у независимой команды исследовательниц, которые изучали, как язык публикаций влияет на отношение общества к преступлениям. «Анализ 250 текстов показал, что в четырёх из пяти текстов журналисты транслируют голос власти и не маркируют убийство женщин как часть системной проблемы. В каждом пятом тексте обвиняют жертву и не рассказывают историю насилия, которая завершилась убийством», — делают выводы авторки проекта.
Человек может решить свою частную проблему, привлекая прокуратуру, играя на ведомственных противоречиях, по сути, пробивая головой стену. Но ему придётся нелегко и он в редких случаях будет тиражировать свой успех для других.
Позитивный пример из Зеленограда (находится рядом с Москвой, в городе проживает около 250 тысяч человек). Десять лет назад городской активист фиксировал дорожные нарушения, отслеживал, как настроены светофоры, собирал информацию о пробках. Потом «капал на мозги» руководству города своими предложениями, как ситуацию улучшить. Пока его не подключили к решению этих проблем. На общественных началах. Сейчас этот активист руководит большой компанией и является крупным подрядчиком Москвы по технической организации дорожного движения.
— Таких примеров — один на миллион, таких активистов, которые варятся в своей маленькой лужице, в своей маленькой проблеме, — один на тысячу. И наша задача как медиа вытаскивать такие истории успеха и рассказывать их, — считает Александр Эрлих. — И вторая наша задача — организовывать людей. Мы можем это сделать: собрать 2-3 тысячи подписей и выступать за изменения от лица горожан. И это большая сила. У нас в Зеленограде очень хорошо работает такая схема. Но самостоятельно люди не могут организоваться, не умеют, не знают как.
На коммунальном и бытовом уровне россияне хорошо защищены, уверен Александр Эрлих. Но чтобы добиться изменений, надо заниматься решением проблемы системно и длительное время. В пример он приводит историю с жителями новостройки, которым строительная организация навязала собственную управляющую компанию. Жильцы смогли провести собрание собственников, сменили УК и добились, чтобы в отношении навязанной застройщиком компании возбудили уголовные дела.
Позитивный пример из Зеленограда (находится рядом с Москвой, в городе проживает около 250 тысяч человек). Десять лет назад городской активист фиксировал дорожные нарушения, отслеживал, как настроены светофоры, собирал информацию о пробках. Потом «капал на мозги» руководству города своими предложениями, как ситуацию улучшить. Пока его не подключили к решению этих проблем. На общественных началах. Сейчас этот активист руководит большой компанией и является крупным подрядчиком Москвы по технической организации дорожного движения.
— Таких примеров — один на миллион, таких активистов, которые варятся в своей маленькой лужице, в своей маленькой проблеме, — один на тысячу. И наша задача как медиа вытаскивать такие истории успеха и рассказывать их, — считает Александр Эрлих. — И вторая наша задача — организовывать людей. Мы можем это сделать: собрать 2-3 тысячи подписей и выступать за изменения от лица горожан. И это большая сила. У нас в Зеленограде очень хорошо работает такая схема. Но самостоятельно люди не могут организоваться, не умеют, не знают как.
На коммунальном и бытовом уровне россияне хорошо защищены, уверен Александр Эрлих. Но чтобы добиться изменений, надо заниматься решением проблемы системно и длительное время. В пример он приводит историю с жителями новостройки, которым строительная организация навязала собственную управляющую компанию. Жильцы смогли провести собрание собственников, сменили УК и добились, чтобы в отношении навязанной застройщиком компании возбудили уголовные дела.
- Александр Эрлихиздатель и главный редактор городского сайта Zelenograd.ruОдин человек не может добиться ничего, тысяча — добьются чего угодно на районном уровне. 10 тысяч человек добьются чего угодно в решении коммунальных проблем на уровне Москвы. Это чисто количественные показатели. Как говорил Алексей Навальный**, «у каждого должны быть 15 минут борьбы с режимом в день. Этого достаточно». Представьте, тысяча или 10 тысяч человек всего 15 минут в день будут заниматься тем, чтобы ему комфортнее жилось в своём доме, в своём дворе… Мы бы не узнали наши города через год с точки зрения качества жизни, удобств, комфорта.
С какими сложностями сталкиваются журналисты
— Наверное, главная проблема, которая есть, — это сами люди, которые не очень-то и понимают, что такое их права, что они нарушаются и надо ли им вообще их защищать, — говорит Евгений Белянчиков*, главный редактор сайта Karelia.news. — Иногда думаешь: «А зачем я пишу про тебя, если тебе самому это вроде как и не надо?»
Потребительское отношение читателей к журналистам: «я к вам обратился, вы и решите мою проблему, но меня дополнительно не напрягайте» — встречает и Александр Эрлих. В редакции Zelenograd.ru таким героям предлагают сделать хотя бы первый шаг по инстанциям и снова обращаться в СМИ, если ответ не удовлетворит.
— Очень многие отваливаются на этом этапе, — говорит Александр Эрлих. — У меня тут очень жёсткая позиция: если люди сами не готовы что-то сделать, то мы тоже не будем делать. И стараемся не писать, что всё плохо, а в конце материала добавлять раздел для читателей, рассказывающий, что они могут сделать. Там публикуем телефоны и адреса, куда человек может обратиться самостоятельно, если столкнулся с аналогичной проблемой. Тысяча человек прочитает, если пять из них напишет и позвонит — это уже будет хорошо.
Люди своими правами не интересуются до тех пор, пока их лично не коснется беда, считает Елена Трифонова. Но даже когда коснётся, часто боятся говорить вслух, что их права нарушают. Боятся обращаться к журналистам, а если обращаются, часто просят не называть их фамилии.
— Был случай, когда врач рассказал нам, что у них в ковидном госпитале не хватает СИЗов, поэтому они их стирают в хлорке и надевают по семь раз. Так вот, человек попросил поменять не только фамилию и должность, но даже пол, — говорит Елена Трифонова.
Потребительское отношение читателей к журналистам: «я к вам обратился, вы и решите мою проблему, но меня дополнительно не напрягайте» — встречает и Александр Эрлих. В редакции Zelenograd.ru таким героям предлагают сделать хотя бы первый шаг по инстанциям и снова обращаться в СМИ, если ответ не удовлетворит.
— Очень многие отваливаются на этом этапе, — говорит Александр Эрлих. — У меня тут очень жёсткая позиция: если люди сами не готовы что-то сделать, то мы тоже не будем делать. И стараемся не писать, что всё плохо, а в конце материала добавлять раздел для читателей, рассказывающий, что они могут сделать. Там публикуем телефоны и адреса, куда человек может обратиться самостоятельно, если столкнулся с аналогичной проблемой. Тысяча человек прочитает, если пять из них напишет и позвонит — это уже будет хорошо.
Люди своими правами не интересуются до тех пор, пока их лично не коснется беда, считает Елена Трифонова. Но даже когда коснётся, часто боятся говорить вслух, что их права нарушают. Боятся обращаться к журналистам, а если обращаются, часто просят не называть их фамилии.
— Был случай, когда врач рассказал нам, что у них в ковидном госпитале не хватает СИЗов, поэтому они их стирают в хлорке и надевают по семь раз. Так вот, человек попросил поменять не только фамилию и должность, но даже пол, — говорит Елена Трифонова.
- Люди очень боятся и не верят вообще ни в какие инструменты воздействия на власть. Но у нас много примеров того, как ситуацию удавалось менять именно благодаря огласке. И тут многое зависит от самого человека, от его решимости и смелости. Я бы не сказала, что от журналиста ждут, что он решит все проблемы. Ну, просто потому, что люди вообще никому уже особо не верят, и журналистам тоже.
Отписки и бездействие чиновников — еще одна сложность, с которой сталкиваются журналисты, пишущие о нарушении прав человека. Государство, владеющее всеми ресурсами, чтобы помогать людям жить лучше, обычно старается проблемы игнорировать.
— Очень много жалоб именно на бездействие государства или на реакцию противоположную, — говорит Евгений Белянчиков*. — Отписки, формальные ответы — все мы через это проходили. Хочется что-то делать, а ты ничего не можешь, ты бессилен.
— Очень много жалоб именно на бездействие государства или на реакцию противоположную, — говорит Евгений Белянчиков*. — Отписки, формальные ответы — все мы через это проходили. Хочется что-то делать, а ты ничего не можешь, ты бессилен.
Как и о чём писать
Независимых журналистов часто упрекают, что они только плохое про власть пишут и только её ругают.
— Мы ругаем по законам драматургии. В материале должен быть конфликт. Нет конфликта — нет материала, — говорит Георгий Чентемиров. — Зачем писать, что дорога ровная, если она должна быть ровной? Здесь нет темы, так и должно быть. А если люди лишены медпомощи, потому что не дозвониться до «скорой», а если дозвониться, не доехать — это проблема, которую нужно решать. Это конфликт, который есть, и на него нужно обращать внимание власти.
Не хайповать на конфликте, не публиковать историю, если досконально в ней не разобрался, не делать скандальный заголовок, дать шанс высказаться всем сторонам — базовые правила профессионального журналиста. И эти правила помогут хотя бы частично избежать возможных проблем и конфликтов с властями.
— Зачастую мы настроены на хайп, нам очень важно именно со скандальной стороны подать материал, даже иногда не разобравшись, — говорит Евгений Белянчиков. — И это часто приводит к обидам чиновников, государственных деятелей, что там всё не так, мы не разобрались. Хотя я, конечно, придерживаюсь позиции, что журналистика должна поднимать острые вопросы.
— Мы ругаем по законам драматургии. В материале должен быть конфликт. Нет конфликта — нет материала, — говорит Георгий Чентемиров. — Зачем писать, что дорога ровная, если она должна быть ровной? Здесь нет темы, так и должно быть. А если люди лишены медпомощи, потому что не дозвониться до «скорой», а если дозвониться, не доехать — это проблема, которую нужно решать. Это конфликт, который есть, и на него нужно обращать внимание власти.
Не хайповать на конфликте, не публиковать историю, если досконально в ней не разобрался, не делать скандальный заголовок, дать шанс высказаться всем сторонам — базовые правила профессионального журналиста. И эти правила помогут хотя бы частично избежать возможных проблем и конфликтов с властями.
— Зачастую мы настроены на хайп, нам очень важно именно со скандальной стороны подать материал, даже иногда не разобравшись, — говорит Евгений Белянчиков. — И это часто приводит к обидам чиновников, государственных деятелей, что там всё не так, мы не разобрались. Хотя я, конечно, придерживаюсь позиции, что журналистика должна поднимать острые вопросы.
Есть три типа обращений людей к журналистам — по степени вовлеченности. Их выделил Александр Эрлих
- 1Когда человек буквально видит неожиданные изменения вокруг себя и не понимает, что происходит. Например, идёт по городу, и какой-то участок огородили забором. Человек не понимает, как это его коснётся, начинает беспокоиться и хочет узнать, что происходит.
- 2Когда человек сталкивается с несправедливостью: в больнице нахамили, у ребёнка проблемы в школе, на работе выговор объявили, капуста подорожала на 150 %. Человеку кажется, что его обидели, но он при этом не понимает, что делать.
- 3Когда у человека в голове есть представление, что и как надо изменить, чтобы стало хорошо. Обычно к этому типу людей относятся активисты и городские сумасшедшие. Они со своими проектами приходят в редакцию, чтобы продвинуть эту идею дальше.
Елена Трифонова отмечает топ «вечных» тем интернет-журнала «Люди Байкала»:
Состояние медицины и качество оказываемой медицинской помощи стали основной темой и для фонда «Общественный вердикт». Всплеск жалоб от заключённых был в ковидный 2020 год. Поэтому сотрудники фонда создали интерактивную карту мониторинга респираторных заболеваний в колониях и СИЗО «Серая зона».
— В связи с введёнными из-за пандемии ограничениями в фонд стали обращаться люди за правовой помощью по этому поводу. Можно отметить и возросшее число дел по обжалованию бесчеловечных условий содержания, — говорит Елена Истомина.
2021 год начался с массовых протестов в поддержку Алексея Навального** и ужесточения иноагентского законодательства. У юристов и адвокатов фонда значительно увеличилось число дел по этим направлениям. Поступили в фонд обращения от заключённых, переживших пытки после бунта в ангарской колонии.
— Оказала влияние и «спецоперация в Украине», которая началась 24 февраля 2022 года. Сейчас в работе фонда появились дела по новым статьям о «дискредитации российской армии»: мы защищаем людей, на которых были составлены протоколы, — говорит Елена Истомина. — Несмотря на непростые условия, которые возникли сейчас, мы продолжаем свою работу дальше и будем делать её до той поры, пока в России это будет возможно.
- Непроработанность природоохранного законодательства на особо охраняемых природных территориях. Для Иркутской области и Бурятии это больная тема, потому что проблема выливается в настоящие трагедии для людей. Одна из последних историй: природоохранная прокуратура хотела снести целую деревню, которая была основана на острове Ольхон на Байкале в 1930-х годах. Потому что дома якобы построены на землях лесного фонда, а вовсе не деревни. Жители заняли очень активную позицию, создали общественное движение и добились прекращения дела. Выяснилось: когда составляли «лесную карту» в советское время, просто допустили ошибку и «забыли» поставить деревню на карту.
- Обеспечение лекарствами льготных категорий. «Люди Байкала» постоянно пишут, что особенным детям не дают лекарства, положенные по закону, или пытаются заменить оригинальные препараты на дженерики. «В области уже есть несколько уголовных дел против чиновников Минздрава. Но это не помогает, потому что проблема не в чиновниках, а в системе: денег не хватает, специалистов тоже.
- Домашнее насилие (примеры историй и реакцию читателей на них см. выше).
Состояние медицины и качество оказываемой медицинской помощи стали основной темой и для фонда «Общественный вердикт». Всплеск жалоб от заключённых был в ковидный 2020 год. Поэтому сотрудники фонда создали интерактивную карту мониторинга респираторных заболеваний в колониях и СИЗО «Серая зона».
— В связи с введёнными из-за пандемии ограничениями в фонд стали обращаться люди за правовой помощью по этому поводу. Можно отметить и возросшее число дел по обжалованию бесчеловечных условий содержания, — говорит Елена Истомина.
2021 год начался с массовых протестов в поддержку Алексея Навального** и ужесточения иноагентского законодательства. У юристов и адвокатов фонда значительно увеличилось число дел по этим направлениям. Поступили в фонд обращения от заключённых, переживших пытки после бунта в ангарской колонии.
— Оказала влияние и «спецоперация в Украине», которая началась 24 февраля 2022 года. Сейчас в работе фонда появились дела по новым статьям о «дискредитации российской армии»: мы защищаем людей, на которых были составлены протоколы, — говорит Елена Истомина. — Несмотря на непростые условия, которые возникли сейчас, мы продолжаем свою работу дальше и будем делать её до той поры, пока в России это будет возможно.
* Цитаты Евгения Белянчикова и Георгия Чентемирова с дискуссии журналистов Карелии, которая состоялась в 2021 году. Разговор был посвящен тому, как журналисты освещают тему прав человека.
** Росфинмониторинг внес Алексея Навального в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Над спецпроектом работали: автор — Ольга Бердецкая, верстка — Ярослав Чернов.
** Росфинмониторинг внес Алексея Навального в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Над спецпроектом работали: автор — Ольга Бердецкая, верстка — Ярослав Чернов.
