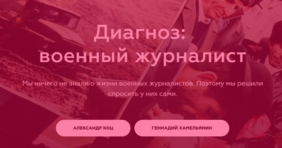Как журналисты профессионально выгорают и что с этим делать
Занимаясь журналистикой, многие сталкиваются с синдромом профессионального выгорания. Как с ним бороться? Какие психологические проблемы могут быть характерны для представителей этой профессии? Об этом рассказала психолог Ольга Кравцова.
— С точки зрения психолога, есть ли у журналистов такие особенности профессиональной работы, которые приводят к выгоранию?
— Конечно. Мне очень отрадно, что сейчас вдруг заговорили о профессиональном выгорании среди журналистов, потому что прежде психологическому состоянию журналистов вообще уделялось очень мало внимания. И не только у нас, кстати. Об этом говорит и центр Dart, основанный в Америке всемирный центр, с отделениями в разных странах — в Австралии, в Европе… Он занимается обучением журналистов тому, как лучше освещать травматические ситуации, как разговаривать с пострадавшими и какое это влияние оказывает на самих журналистов.
Что такое вообще «выгорание»? Ты бросаешь себя в огонь, и что при этом происходит? Среди журналистов распространена такая профессиональная культура, что подобные проблемы отрицаются, и это особенность не культуры какой-то отдельной страны, а именно — профессиональная особенность, такая, как говорят американцы, macho culture: за моей спиной происходит что-то ужасное, а я просто подаю информацию. И только потом выясняется, что я что-то плохо сплю, да и выпить хочется каждый день. Когда я начинала писать проекты для программы Фулбрайт, то думала: какая прекрасная тема, расскажу журналистам про стрессы, про то, что происходит с людьми, когда они переживают драматические события. Мне в ответ: ну-у, все как-то сами справляются, такой проблемы нет, и обсуждать ее с тобой никто не будет. Жаль, а мне казалось, что это так интересно. А как справляются? Стакан водки вечером. Но ведь если нужен стакан водки вечером, то это — звоночек, что проблема уже есть!
Изначально про выгорание стали говорить в отношении других профессий, где много общаются с людьми: о соцработниках, медработниках. Выгорание считалось усталостью от сострадания. Это не просто у человека очень много задач по работе.
— Как оно определяется?
— Это такой синдром, когда человек интуитивно теряет какой-то огонек и устает от сострадания, потому что все время пропускает проблемы других людей через себя, в силу профессиональной необходимости. В результате снижается эмоциональная вовлеченность: ну зачем все это надо, если все равно это ни к чему не приводит… То есть теряется какой-то смысл профессиональной деятельности, человек перестает замечать и чувствовать свои достижения («я что-то могу, у меня что-то получается»), выхолащивается смысл того, что ты делаешь, идет эмоциональное отстранение: я буду формально выполнять свои обязанности, не буду эмоционально вовлекаться, потому что это больно, меня выматывает, высасывает из меня энергию. Наивно думать, что со мной такого не произойдет, во всех таких профессиях есть большой риск. Так что лучше об этом знать, уметь отслеживать у себя, коллег или подчиненных какие-то ранние симптомы и что-то с этим делать.
— Вы начали говорить о том, что сначала считали выгорание характерным только для определенных профессий.
— В определении ВОЗ говорится о выгорании как о рабочем стрессе, с которым человек не справляется, на который не хватает внутренних ресурсов. Изначально выгоранием считалось эмоциональное состояние, возникающее в результате того, что все время пропускаешь через себя проблемы других людей.
— Мы начали разговор с того, что у журналистов есть какая-то специфика.
— Сама профессия бросает журналистов на то, чтобы разгребать какие-то проблемы, беды, неприятности, что-то пытаться изменить. Почему хирурги могут быть циничными? Они могут отгородиться. А специфика журналистов, как, может быть, и психологов-консультантов, состоит в том, что ты не можешь стать циником, потому что тогда ты станешь плохо работать.
И журналистам, и психологам надо разговорить человека, войти с ним в контакт, не просто формально что-то оттарабанить. То есть, как и у психолога, личность журналиста — это его рабочий инструмент. Юрий Романов писал в своей книжке («Я снимаю войну»): ты много снимаешь каких-то кровавых, ужасных вещей, и в какой-то момент количество трупов, которые ты видел, зашкаливает, и тогда ты переходишь в автоматический режим. И тогда, говорит он, я замечаю, что из работы уходит то, что называют божьей искрой, тот эмоциональный момент, который делает работу не просто механической, а — хорошей.
С выгоранием еще связывают «синдром Супермена»: «я должен все мочь, мне все нипочем». А Супермен, кстати, по профессии был именно журналистом. Но чтобы быть хорошим журналистом, Суперменом быть как раз не обязательно.
Приходится искать какой-то баланс между тем, чтобы не загрубеть, не отгораживаться, не становиться циничным, и тем, чтобы не умирать с каждым человеком, которому ты сопереживаешь, не впадать с ним в какой-то коллапс. В этом общность, мне кажется, у журналиста и психолога. А отличие, может быть, в том, что то, что журналисты, что называется, — first responders, то есть те, кто реагирует первыми. Журналистика — профессия, которая противоречит биологическому инстинкту: когда что-то происходит, все бегут «от», а журналисты, медики, спасатели бегут «к», — к происшествию. При этом медики могут спасти жизнь прямо на месте, а у журналистов, особенно молодых и чувствительных, иногда возникает этическая проблема: люди в беде, а я тут снимаю.
— Причем неочевидно, что это кого-нибудь спасет.
— Неочевидно. Конечно, если в экстремальной ситуации не хватает рабочих рук, журналистам приходится откладывать камеру и помогать людям непосредственно, «выпадая» из профессиональной роли. Но у журналистов — тоже одна из важнейших задач в общественном пространстве, которая соответствует другим целям. Да, медик может спасти жизнь непосредственно на месте происшествия, но у него нет такой силы, как у медиа, чтобы привлечь внимание общественности или помочь организовать помощь, распространить информацию, написать об этом так, чтобы люди задумались. Да, психолог может поговорить с конкретным человеком, и тому в долговременной перспективе будет полегче, но у психолога тоже нет тех мощностей, как у журналистов, чтобы как-то охватить большую проблему. Мы общаемся, например, с беженцами и не можем звонить в набат, что есть такая проблема, которую нужно решать. За этим приходится обращаться к журналистам. У журналистов — другая общественная задача, и она ничем не хуже, чем непосредственная помощь на месте. Иногда это фрустрирует, но, мне кажется, журналистам полезно это помнить: я выполняю свою профессиональную роль, она ничем не хуже другой.
Мне кажется, профессия бросает журналиста не только в эти травмы, в это пламя, но и дает инструменты, чтобы с травмой справляться профессионально и более эффективно. Вот падает самолет. Кто-то молится, кто-то плачет, а журналист схватился за камеру и давай снимать и брать интервью. Это, говорят, — профдеформация. Но отчасти это не деформация, а самый настоящий профессиональный инструмент: ты из хаоса делаешь что-то осмысленное, что, может быть, пригодится потом, послужит свидетельством, уроком, и, может, кого-то спасет.
И в травматической ситуации, в которой вообще потерян контроль над происходящим, в которой происходит нечто хаотичное, а мы —объекты, которые не могут ни на что повлиять, у журналиста есть какие-то небольшие аспекты, которые они могут контролировать и влиять на что-то, и это само по себе терапевтично.
— У журналистов очень особая роль в обществе, и она — очень странная. Это профессия, которая не обязательно требует диплома; это профессия, где не выдают лицензию, государство это не регулирует, то есть нет многого того, что делает другие профессии профессиями. В принципе, любой человек с улицы может прийти в газету и начать писать. Но при этом невероятная роль даже в авторитарных государствах: многие чиновники все равно считают себя обязанными отвечать этим людям, которые называют себя журналистами. Журналисты имеют доступ к селебрити, к информации, к инсайду. Особая такая профессия. Почему она такая? Что такого в том, чтобы иметь возможность говорить обществу о чем-то? Почему обществу это важно?
— Человеку нужна информация, на основании которой можно принимать решения. Как отдельно взятые личности мы не можем в современном мире постичь глобальную картину, нужны другие люди, которые дают нам информацию о том, чего мы не знаем. Должны быть люди, которым мы доверяем, о которых у нас уже сложилось какое-то мнение. В обилии информации, при том, что ты не можешь сам проверить, ты выбираешь какой-то канал, которому доверяешь как правдивому. И, конечно, есть много аспектов, как можно этим манипулировать, пользоваться или злоупотреблять.
Мне кажется, у человека есть очень базовая потребность контролировать то, что с тобой происходит. Она, как показывают исследования, проведенные с людьми, пережившими насилие, даже важнее самооценки. Почему легче сказать «сама, дура, виновата», в том числе и про себя? Потому что это вот такое обретение контроля. «Если я пойму, что я (или другой человек) сделал «не так», я так больше делать не буду, и со мной не произойдет беда. Нам некомфортно ощущать себя тараканом, которого в любой момент могут прихлопнуть тапком. Нам надо понять, направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь… Мы хотим иметь свободу выбора и контроль над тем, что с нами происходит.
И когда журналист берет интервью у человека, пострадавшего от какой-то травматической ситуации, полезно дать человеку возможность осуществить какой-то выбор даже в каких-то мелочах. Например, предложить: если вы даете согласие на интервью, то вы хотите, чтобы мы здесь поговорили или, может, нам уйти в какую-то удаленную тихую комнату? Вы хотите один на один со мной разговаривать — или пусть присутствует кто-то из ваших близких? Сидя или стоя? То есть буквально дать какой-то простой выбор человеку, чтобы он почувствовал, что он может что-то контролировать.
Наверное, журналисты, нужны в том числе и для чувства контроля: я не вслепую двигаюсь по своей жизни, принимая какие-то важные для себя решения, в том числе и глобальные, а делаю это на основе некоей информации. Информация мне нужна, и я ее жду от специально выбранных людей.
— Вы сказали, что иногда теряется смысл, но ведь, в принципе, получение зарплаты — это тоже смысл? Вообще человеку обязательно объяснять себе свою работу какими-то высшими целями?
— Ну, да. Я — апологет Виктора Франкла, который считал, что смысл — это некая базовая штука, которая для нас очень важна. Да, наверное, можно находить смысл в получении денег, но это неустойчивая конструкция что ли… Получается, что с потерей зарплаты и смысл проседает. Зарплата — это скорее ресурсы.
Мы все задаем себе вопросы: зачем я это делаю, хорошо ли это у меня получается. Военные журналисты, например, говорят: когда ты едешь в военную зону, как к этому психологически подготовиться? Задать себе вопрос, чего я хочу? Зачем я туда еду? Если я хочу получить Пулитцера и чтобы все мною восхищались, то это не очень устойчивый смысл. Как ни странно, для психологического здоровья какие-то идеалистические намерения становятся более устойчивыми смыслами: например, я хочу вложиться в то, чтобы, что-то прекратилось. Хотя тут важно понимать, что многие люди — перфекционисты, и поэтому думают так: я же врач, а потому должен уметь всё вылечить; я же журналист, а потому должен сделать такую фотографию с войны, чтобы все сразу сказали: боже-боже, ее надо прекратить! Классно, когда так происходит. Но так происходит не всегда, и нужно уметь подмечать свои маленькие инвестиции в это дело, не ожидая быстрого эффекта. Чаще всего мы работаем с какими-то глобальными проблемами, которые сложно сразу сдвинуть с мертвой точки. Поэтому если она даже капельку сдвигается, то надо уметь это брать себе в психологическую копилку.
— Есть ли у вас общие советы по психологической безопасности для журналистов?
— Как я уже сказала, нужно разделять то, что ты можешь сделать и чего не можешь. Однажды я работала как переводчик с приглашенными журналистами, и выступал журналист-расследователь из «Нью-Йорк Таймс». После лекции ему задали болезненный, как мне кажется, для всех вопрос: «Как вы как журналист справляетесь с тем, что ничего не происходит после того, как вы сделали расследование, его опубликовали и его даже прочитали?». Он ответил так: моя работа — сделать и опубликовать это расследование, я стараюсь не переживать за то, что оно должно людей сподвигнуть на какое-то действие, я не знаю, может, только через десять лет общество наконец-то отреагирует.
Не нужно ждать, что ты своей работой произведешь эффект разорвавшейся бомбы, которая сразу изменит мир к лучшему. Нужно уметь об это не обламываться, но иметь для себя ответ на вопрос, зачем ты делаешь то, что делаешь. Советы тут давать трудно, человек к этому приходит с опытом и с собственными переживаниями. Я для себя в какой-то момент поняла: луну с неба я не могу достать, а яблоко с ветки — могу, и я его достану. Есть вещи, которые я не могу сделать, а есть — которые могу. Пусть они маленькие, но я их сделаю. Для меня это момент важных переживаний — и в психологической, профессиональной, и в личной жизни.
Ты переживаешь за другого человека до такой степени, что сейчас сердце разорвется, но ведь если оно разорвется, то ты человеку точно не поможешь? И если самоустранишься, то тоже не поможешь. А что я могу? Я не могу вернуть человека, который погиб, как бы я этого ни хотела, но могу дать тепло человеку, которое может ему помочь. И я дам.
— Вы упомянули проблему с алкоголем. Журналисты пьют, в отличие от других, как-то иначе? Причины для питья какие-то иные?
— Мне кажется, причина — прежде всего в том, что нет осознания, что с этим эмоциональным грузом надо как-то справляться, он отрицается. Вот приехал журналист из Беслана и думает: все нормальные, а я ночи не сплю, у меня какие-то флэшбэки, яркие вспышки воспоминаний — наверное, я схожу с ума. При посттравматике такие переживания часты: что-то со мной происходит, я как будто схожу с ума, и лучше об этом никому не говорить… Но нужно понять, что это как раз нормальная реакция на ненормальные обстоятельства… Беслан — это ненормальная ситуация, и вы в ней побывали. И то, что с вами происходит, как раз нормально. Мне кажется, что в выпивке отпадает необходимость, когда люди понимают, что а) с этим надо как-то иметь дело вместо того, чтобы изобразить, что этого нет, и б) есть способы расслабиться и проработать травму иным воздействием на себя, нежели выпивка.
— Выпивка — это всегда симптом психологического нездоровья?
— Я бы так не сказала. Можете ли вы контролировать потребление? Удовольствие это или необходимость? Есть момент, когда потребление переходит в алкоголизм. На факультете психологии на курсе по общению с больными алкоголизмом профессор нам говорил, что врач, который работает с больными алкоголизмом, не должен пить вообще. Когда ты разговариваешь с пациентом, и он спрашивает, не выпиваешь ли ты, доктор должен смочь честно сказать человеку: нет. Ни по каким праздникам. Ни по чуть-чуть. Ведь если доктор говорит: «ну, по праздникам», то алкоголик отвечает, что и он — тоже по праздникам.
Мы не думаем, что в журналистику идут люди, склонные к тому, чтобы выпивать. Скорее наоборот, можно предположить, что профессия «учит» этому. А как еще расслабиться? А как еще забыть все, что ты видел? Однажды после информационного семинара один журналист сказал мне: «Меня учили, что без выпивки нет журналиста, это — часть профессии, но после семинара я понял, что мне это не нужно». И даже если это единственный эффект моей работы, то я прямо горжусь им и уже могу приписать себе какие-то лавры, потому что я такой цели не ставила. Тогда мы об этом заговорили, мы поняли, что это не проблема одного человека, что у всех есть свои истории и свои переживания, что это распространено и просто с этим надо работать. Не глуша алкоголем, а осознавая привычку, беря ее под контроль, прорабатывая. И тогда такой способ расслабления отчасти теряет свою уникальность, единственность. Может быть, стоит рассмотреть альтернативный способ расслабления.
— Какие-то побочные психологические эффекты еще у журналистов существуют?
— Проблемы в отношениях. Поскольку у меня нет статистики, это, скорее, общее место. Если человек возвращается с войны, то, как говорят, физически он приехал, но психологически до мирной жизни еще не доехал. Трудно близким. Они ждали, что ты приехал как папа и как муж, должен выполнять некие обязанности, роли, а ты еще к мирной жизни не адаптировался…
— Мне как-то один взрослый мудрый человек сказал: ты профессионально избалована общением с очень интересными людьми. Я подумала, что в этом что-то есть. Журналист все равно общается с людьми выше среднего, и партнер должен быть интересен на этом фоне. Это — сложно.
— Это интересный аспект, в таком ключе я об этом не думала, но, наверное, — да. Но тут есть часть более общей проблемы, когда умные, интеллигентные люди ищут себе партнера под стать и не всегда находят. А если говорить про журналистов, то есть в «Современнике» спектакль на эту тему. Герои — пара военных журналистов. Он хочет более-менее нормальной жизни, хочет видеть в ней домашнюю женщину, а она рвется на работу как военный журналист.
Я не хочу патологизировать, но, наверное, все же есть какие-то общие вещи, про которые мы должны говорить. Общность не в том, что мы категоризируем, что все журналисты — вот такие, а в том, чтобы сами журналисты могли обсуждать эти проблемы с коллегами, в профессиональной среде. Я замечаю, что сначала говорят: «зачем нам психолог, все нормально», а потом, когда начинают говорить, им трудно остановиться. Впрочем, это не только у журналистов происходит. И у каждого столько багажа, которым надо поделиться, что надо это обсуждать. Когда ты понимаешь, что ты не один такой («схожу с ума», «фрик», «слабак»), что это — распространенная вещь, что с этим надо работать, то это — хороший терапевтический момент.
При этом культура походов к психологу у нас еще такая полумистифицированная, как будто ты идешь к волшебнику, который сейчас тебя вылечит или пропишет тебе таблетки. Но можно сильно нарваться и попасть к человеку, который, закончив двухмесячный курс, считает себя гуру психотерапии. Но кроме того, что всем полезно ходить к психотерапевту, еще важно уметь об этом разговаривать в условной курилке. Не только никотином отравиться, а какие-то эмоциональные вещи перетереть, которые не вошли в репортаж, остались за кадром, но требуют выхода. Очень важно журналистам уметь это обсуждать в профессиональной среде, поговорить с человеком, который тебя понимает, который имеет схожий опыт.
— Да, есть такое мнение. Я недавно видела комментарий в Фейсбуке* — один журналист делился мнением о походе к психотерапевту, а другой отвечал: в том, что тебе необходим терапевт, тебя убедил терапевт, за твои деньги, чтобы ты к нему приходил всегда. На самом деле тебе помощь не нужна. Первый говорит: нет-нет-нет, помощь нужна каждому человеку.
— Ну есть и такие терапевты, которые подсаживают. Важно не ждать каких-то волшебств от терапевта, с одной стороны. С другой стороны, наши способности к психологическому самокопанию тоже ограничены. Если у человека зуб болит, он же идет к стоматологу? Ты можешь писать себе письма, дневник, рефлексировать, осознавать, отвечать на вопросы, но иногда терапевт предоставляет «зеркало». Это человек, который задает вопросы и помогает докопаться до ответов в безопасной принимающей обстановке. Он не советы дает, а помогает найти ответы внутри себя. Когда мы разговариваем с друзьями, чаще всего каждый тянет одеяло на себя. Особенно, например, когда какие-то травмы обсуждаешь. Тяжело их вынести, проще сказать: ну, твоя травма — ладно, а вот сейчас я тебе расскажу, что у меня…
Нужно искать людей, у которых можно получить поддержку. К терапевту ты идешь затем, чтобы тебя выслушали, не перебивая, не делясь своим опытом, давая возможность осознать какие-то вещи. Почему люди любят копаться в детстве, в отношениях с родителями? Потому что есть какие-то установки, которые нам кажутся собственными убеждениями, но, когда ты начинаешь вспоминать, понимаешь, что тебя так воспитали, а оно тебе может быть чуждо. К тому же оказывается, что есть и другие варианты как-то реагировать, к чему-либо относиться. Осознанность — это наше всё. Чем больше мы осознаем, что у нас внутри, почему я так себя чувствую, тем лучше.
Я же психолог, но понимаю, что не все могу сама. Не потому, что слабая или чего-то не умею, а просто потому, что для каких-то вещей нужен другой человек, с определенными навыками и инструментами. То не можешь сам себе вырезать аппендицит. Не потому, что слабак, а просто не можешь.